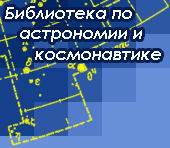
"Звездное небо - сыновьям всей земли"

Как много из них испортили здоровье, истратили имущество, отказались от всех почестей и наслаждений из-за любви к знанию! Сколько умерли мучениками, утверждая до последнего дыхания вечную истину!
Страшно, страшно путнику одинокому на безлюдной дороге по-над Дунаем! Что ни ложбина - глядь, рейтар убиенный лежит, иль пяток алебардщиков, иль ополченцев добрая сотня. И коню нет покоя: хрипит, узду грызет, глазом кровавым косится на мертвечину. На холме, на безлистном дубе, трех повешенных бродяг раскачивает закат, будто колокола. Ох, грехи наши тяжкие: двенадцать годов сожигает империю война. Брат супротив брата восстал, сын распинает отца на кресте. Страшно видеть, как волокут что ни день хладные воды дунайские мертвецов - чьих-то родичей, чьих-то соотчичей, внуков, вдовиц, сынов.
А ночами и того страшней.
С любого взгорья заметны ночами пожары во всех пределах земли. То обращаются в пепел одинокие хижины, храмы, селенья, грады, державы. Высоко воздымается пламень северным ветром, ветром севера, предвестником близких снегов.
По прошествии рокового земного пути, за неделю до смерти, имперский астроном Иоганнес Кеплерус пробирался по грязной разбитой дороге, направляясь в Регенсбург. Все восемь дней, покуда он ехал, из хлябей небесных сочился дождь. Ветхий плащ промок в первый же день и с той поры не просыхал. На четвертый день Иоганну стало казаться, будто и кручи дунайские, и тяжкие облака, и холмы, и яруги пристально следят за каждым его движением, подстерегая урочный миг, когда он обеспамятеет, выпадет из седла и забудется вечным сном. На шестую ночь подступила лихорадка, замутила сознанье, навлекла озноб, тяжесть в членах. И тогда пришло иное виденье.
Пригрезилось ему, будто рассеялись тучи, будто явились взору небеса, полные звезд. Он вгляделся в строй созвездий - и содрогнулся: и там, и там шла война. Там, на небесных островах, метались пожары, испепелялись государства, брат восставал супротив брата, на кресте сын распинал отца. Созвездие Водолея оглашалось криками пытаемых. В Гончих Псах ландскнехты шли на приступ крепости. Из созвездия Скорпиона исторгался неведомо чей глас: "Я ничего не слышу, кроме шума оружия, топота коней, ударов бомбарды, я ничего не вижу, кроме слез, грабежей пожаров, убийств".
Так и ехал математикус по-над Дунаем. И ночью и днем, то ли во сне, то ли наяву. И лишь память противоборствовала безумию, забвению всего и всех.
Он припомнил ужасающие подробности той ночи, когда разъяренный рейтар мгновенно высверкнул мечом, намереваясь обрубить нос магистру всех свободных наук, между тем как невозмутимый Лаврентий Клаускус целился из пистолета прямо перед собою.
Он припомнил - в последний раз - церемонию развенчания ереси недостойного Ризенбаха.
Он припомнил, как чернобородый главарь банды отчаянно завращал глазами, когда почуял у горла острие леденящей стали, когда услышал зычный голос: "Скотина, как посмел ты покуситься на гордость всей Штирии великой!"
Он припомнил страшное подземелье в тюбингенской тюрьме.
И когда Иоганн вспомнил тюремный подвал, из засады выскочили два всадника и уперли пики ему прямо в грудь.
- Кто таков? Ответствуй! Пошто молчишь? Лютеранин? Католик?
Второй всадник, пытаясь разглядеть в сумерках обличье незнакомца, проговорил:
- Все ясно. Лазутчик вражеский. Давай порешим на месте.
- Э, нет, - отвечал ратный его сподвижник. - За птичку сию большая награда выпадет нам обоим. Препроводим-ка шпиона к его высокопревосходительству фельдмаршалу Шпатцу...
Его высокопревосходительство возлежал на тигровой шкуре в походном своем шатре. Отогнув до колена длинный раструб сапога, Мартин Шпатц втирал целительный бальзам в бедро, кривился. Все чаще ныла в непогоду старая рана - наследство долины Длинных Теней. Подле фельдмаршала сидел на шкуре огромный пес. Изредка пес поводил ушами, слабо рычал.
- Эх, Иоганн, Иоганн, несравненный ты мой дружище, - говорил Мартин. - Один, в дырявом плаще, на дохлой кляче, посреди мерзостей войны. Куда несет тебя нелегкая? Любой головорез прикончит тебя в два счета ни за понюшку табаку... Нет, ты всегда безумствовал, еще тогда, в школе, когда вопросики свои подсовывал учителю. Безумный, безумный брат мой Иоганн.
- Я не безумен, фельдмаршал, - сказал Кеплер и отхлебнул горячего молока из чаши. Математикуса все еще сотрясал озноб. - Воинство твое безумно. Истинна мудрость: "Лучше вспахать надел земли, чем выиграть двадцать четыре войны". Ненавижу твое ремесло. Когда курфюрст завоевал Прагу, все инструменты учителя моего Тихо Браге порушила солдатня, всю кунсткамеру растащили. Астролябии, квадранты, глобусы поразрезали на латы. Варвары!.. А теперь что? Заместо цветов поутыкана земля мечами! Кинжалами, кулевринами, арбалетами, самострелами!
- Полно горячиться, звездогадатель. Не я баталии выдумал. Издревле воюет мир, - спокойно заметил его высокопревосходительство и спросил: - Откуда ты выискался, дружище?
- От Валленштейна*. Насмерть рассорился с полководцем. Государь приказал ему выплатить мне жалованье за все прошлые годы. И что ты думаешь: сей граф Мекленбургский назначает меня - противу моей воли! - личным астрологом. И повелевает: предугадай, мол, благоденствие моей сиятельной особе на ближайшие девяносто лет. Да кто я для него, новоявленный Петозирис, что ли?
* (Валленштейн (1583-1634) - полководец времен Тридцатилетней войны, длившейся с 1618 по 1648 год.)
- Как ты упомянул: Петозирис? - удивился фельдмаршал.
- Астролог был египетский. Каждому, кто тщился прожить лет до ста, предписывал режим. Ладно, не в том суть. Прошлую неделю призывает меня к себе герр Валленштейн. "Верно ли, - спрашивает, - будто светила оттого петляют в небесах, поскольку головы их затуманены винными испареньями, непрестанно подъемлющимися от Земли?" - "Ваше сиятельство, кто из древних либо новых звездонаблюдателей сочинил великую сию теорию?" - говорю я графу. "Один из моих генералов", - ответствует полководец. Тут я полководцу и выкладываю напрямик: "Без сомнения, сочинитель ваш сам пребывал во власти винных паров".
Мартин отшвырнул склянку с бальзамом, приподнялся на локте и затрясся от смеха:
- А-ха-ха! Ну, умора!.. Что ж Валленштейн?
- Другого себе выписал астролога, из земель итальянских. Тот ему в первый же вечер предрек бессмертие... Так и не уплатил мне граф ни пфеннига.
- Куда же ты направляешься, строптивец?
- В Регенсбург. Пытаюсь сызнова потрясти императорскую казну. Авось что перепадет. Девятнадцать лет не выплачивает мне жалованье казна, веришь ли? Обнищал, изголодался, точно христарадник какой.
Серебряный звук трубы всплыл в ночи - два долгих сигнала, три коротких. Пламя светильника качнулось. Пес зарычал, уставясь на вход в шатер, изготовился к прыжку.
- Сидеть, Урс! - скомандовал фельдмаршал. - Эй, кто там возится!
- Ваше высокопревосходительство, вы приказали выступать в полночь. Прошу соизволения свернуть ваш шатер, - сказали из тьмы.
- Сворачивай! Да распорядись четырех воинов прислать, из личной моей охраны! - сказал Мартин и повернулся к другу: - Проводят тебя до самого Регенсбурга. Тут недалеко, менее дня пути. И никого не опасайся: четверка моих удальцов стоит целой роты.
- А я и не опасаюсь никого, - улыбнулся Иоганн. - Двадцать два пфеннига, да несколько оттисков таблиц, да рукопись астрономического романа - вот и все богатства. Какой разбойник позарится?
- Ишь ты, на старости лет сочинил роман астрономический. Все неймется тебе. А про что роман? - спросил фельдмаршал.
- Про селенитов, лунных жителей, - коротко отвечал Кеплер.
- И что ж они, твои селениты, поделывают там?
- Воюют друг с другом. Непрестанно. Насмерть. Его высокопревосходительство поднялся со шкуры, облачился в роскошный плащ, поверх него накинул тяжелую золотую цепь.
- Святая Дева! И на Луне баталии, - восторженно сказал он. - То-то я и гляжу: в последние месяцы такая она пурпурная, кровавая, Луна.
У реки они распростились, теперь уже, видимо, навсегда. Фельдмаршал спешился, приказал конвою отъехать, дожидаться его поодаль. И Кеплер слез с коня, прислонился к сосне, вглядываясь в черный простор, где дышала река. Они молчали долго. Наконец Мартин заговорил, как бы сам с собой:
- Богатство ли, бедность ли - разве не все одно?.. Намедни попалась на глаза расходная книга моего повара. Сей повар при мне лет уж тридцать, еще с долины Длинных Теней. Забавы ради ведет учет всего, что я выпиваю и съедаю. Невообразимо, но за тридцать лет я слопал две тысячи пятьсот свиных окороков! Тысяч пять штук форели! Шесть тысяч перепелов! Куропаток десять тысяч! Вина поглотил бочонков сто или около того! Да от подобной горы питий и яств впору бы обратиться в великана, бессмертие обресть. И все же тело мое состарилось, как у какого-нибудь заурядного, вечно голодного бедняка. Господи, во что я превратился: немощное привидение, мучимое подагрой. Пора умирать, брат Иоганн.
Молчал Кеплер.
- И умереть-то не дадут спокойно. Аки псы, навалились родные сыновья: не обижай, отец, по чести, по совести подели наследство. Перессорились, передрались, точно бойцовые петухи. Позорище: до рукоприкладства докатились!.. Жаль, ошибся тогда твой магистр всех свободных наук. Лучше бы тебе выпало полководчество, а уж я доживал бы свой век в звездочетах. Никаких тебе нотариусов, склок, завещаний...
- Ошибаешься, Мартин, - сказал другу Иоганн. - Даже нищенствующий астроном может завещать кое-что сыновьям.
- Что именно?
- Звездное небо, - тихо проговорил Иоганн Кеплер. - Звездное небо - сыновьям всей Земли.
...Трое богомольцев, в лохмотья облаченных, пришли на кладбище святого Петра. Помолиться пришли за усопших, пред мощами святыми пасть на колени, кошелек умыкнуть из кармана у праздношатающегося зеваки, ежели подвернется случай. Увидали нищие: могилы все повытоптаны, надгробия разворочены, на красной и черной земле - следы копыт лошадиных.
- Жестокая небось разразилась сеча, - сказал одноглазый поводырь. - Гляди, братья: надгробие диковинное, вроде бы каменным глобусом увенчано. По праву руку, в луже лежит.
Слепцы склонились над плитой, расколотой пополам. Леопольд читал вслух:
"На сем месте покоится тело знаменитого звездосоглядатая Иоганна Кеплера, прославившегося во всем христианском мире своими сочинениями, считаемого всеми учеными в числе первых светил астрономии и написавшего собственноручно следующую себе эпитафию:
Mensus erarn coelos, nunc terrae metior umbras; Mens coelestis erat, corporis umbra jacet.
Эпитафия сия, переложенная с латыни пастором Серпилием, означает:
Я мерял небеса, Отныне мрак Подземный измеряю... Мысль моя Принадлежала небу; Плоть моя Покоится в земле.
Мирно почил в году по рождеству Христову 1630, ноября 5 дня, на 60-м году своей жизни".
Леопольд дочитал эпитафию, перекрестился. Сказал в раздумье:
- Стало быть, не токмо землю мерил, как все мы, рабы божьи. На небеса посягал, звездосоглядатай... Негоже, братья, дабы пребывал сей памятник в грязи, бесприютно. Водворим-ка на могилу.
- Водворить-то водворим, - заговорил молчавший дотоле третий слепец, - да где она, могила-то? Поди угадай, откуда надгробье.
- На любую водрузим. На том свете разберутся, где звездочет, а где полководец, - мудро рассудил христарадник Леопольд.
Ландскнехты шествовали по дороге из Регенсбурга. Спины понурые, взоры воспалены, у кого рука, у кого грудь пообмотаны тряпьем.
Мимо летучей армады воронья, выкаркивающей весть о кровавой сечи.
Мимо деревни сожженной, где на пожарище рыщут одичавшие, исхудавшие псы.
Мимо порушенной часовни, под сенью коей вдовица баюкает отрока.
- Наших вчера полегло четыреста девяносто пять, - сказал, ни к кому не обращаясь, старый седой ландскнехт. - Помянем их души песнопением.
И долго над черным сводом земли, под кровавым сводом небес стыла старинная песня крестоносцев:
Уже на Рейн вступает осень, А мы ушли на край земли, И наши кости на погосте Пески пустыни занесли. И тучи в небе пламенеют, И по дорогам вьется пыль, И веет ветер, ветер веет, Из диких, выжженных пустынь. А наши жены ждут нас дома, Невесты наши отцвели, И горько плачут наши вдовы, И плач летит на край земли.
Конец хроник времен имперского астронома Иоганнеса Кеплеруса, в коих вышеозначенный Кеплерус поначалу ученик бродячего фокусника, впоследствии нищенствующий звездочет и наконец и навсегда Кормчий Океана Звезд.

|
ПОИСК:
|
© 12APR.SU, 2010-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'