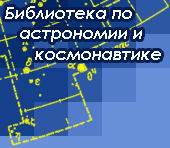
Поклон № 7

Не насыщение утробы, равно как не игрища, песнопения и скачки бесовские, - почитай первейшей заповедью своей помощь братьям по вере.
Под белым сводом небес, над сводом черным земли тлела, нищими несомая, песня крестоносцев:
Уже на Рейн вступает осень, А мы ушли на край земли, И наши кости на погосте Пески пустыни занесли. И тучи в небе пламенеют, И по дорогам вьется пыль, И веет ветер, ветер веет Из диких, выжженных пустынь.
Время от времени кто-либо из страждущих божьих рабов приближался к одноглазому поводырю и ловко запускал руку в его котомку. Во здравии пребывай, мягкосердечный мясник, расставшийся - ради любви к святому Себастьяну - с корзиной колбасных обрезков. Эх, сладостны обрезки колбасок пражских, без них каково было бы превозмогать непогоду!
- Осади ход, братья, - нежданно прошамкал слепец Леопольд. - Вроде пожива скачет. Нутром чую: грядет деньга.
Слепцы воззрились туда, куда безошибочно указал посохом Леопольд. И вправду, пожива - три замызганных фургона - уже выехала из-под навеса сосновой рощи.
Как по команде слепцы сдернули шляпы с раскрашенными изображениями святых заступников. У одного нищего мучительная судорога нежданно свела половину лица, плечо и ногу; на другого христарадника снизошло трясение всех членов; слепец же Леопольд выкатил, как все, бельма и, помимо прочего, из-под лохмотьев высунул обрубок руки, струпьями источаемый.
Фургоны приблизились. Поводырь, точно опытный дирижер, сотворил тайный знак. Несчастные слепцы грянули:
- Добрые, милостивые сограждане империи Римской Священной! Подайте ради Христа слепым и несчастным калекам монетку или кто что сможет, будем благодарить и молить во благо и во здравие вас.
Первого возницу моленье о вспомоществовании не разжалобило, как видно, закостенел в скупости человек. Зато из другого фургона выпорхнул, точно бабочка, красный треугольный кошелек. Слепец Леопольд не только умудрился поймать кошелек обрубком руки, но и определил по весу: никак не менее полутора гульденов послала ему и братьям переменчивая судьба.
- Поклон номер семь! - негромко, но внятно проговорил сквозь зубы слепец Леопольд и, когда братья, смиренно склонясь, возблагодарили неслыханную, воистину королевскую щедрость, спросил возницу:
- Откуда скачете, люди добрые?
- Из Штирии, - отвечал возница. - Лютеран там до смерти бьют.
- Везете кого?
- Кеплеруса, ученого человека...
Уже и фургоны сокрыла пелена дождевая, и скрип колес замолк, а прозревшие слепцы все еще разглядывали кошелек, расшитый бисером.
- Истинно сказано: господин господину рознь, - ударился в философию поводырь. - Один скачет расфуфырен, точно павлин, вроде и карета вся в гербах, и латы раззолочены, а чтоб пфенниг пожертвовать бедняку - ни за какие коврижки, ни-ни. Того и гляди огреет кнутищем. Другой, хоть и оскверняет душу свою науками, однако наделен состраданьем.
- "Состраданьем", - передразнил сообщника Леопольд. - Будь моя воля, я б всех до единого ученых мудрецов собрал да на кострище возвел без дознания и суда. Потому как от занятий наукой выходит порча империи. Летом в Регенсбурге - слыхали? - некий искусник химик обронил склянку с вонючим зельем в Дунай. Обронить-то обронил, да тут же на реке стрясся замор. Три дня и три ночи мертвых рыбин - несчетно сколь! - волокло по Дунаю. И доселе воды смердят.
- А химик? - заинтересовался поводырь.
- Рыбаки прикончили баграми. И туда же, в Дунай, злоумышленника, просить у щук да налимов прощенья.
- Помяни, господи, душу грешную сего нечестивца, - привычно посочувствовали нищие, крестясь.
...Привиделся Иоганну Кеплеру корабль заморский диковинный. Вместо мачты на нем дерево серебристое, с листьями золотыми. Луна, как ладья, качается на ветвях, светила плывут в хороводе, заря розовая дремлет, свернулась клубком, а ветер на суку разлапистом разлегся, посвистывает, похрапывает. Под деревом же восседает магистр всех свободных наук Лаврентий Клаус-кус. И скакун Буцефал подле него, и фазан Бартоломео, и Батраччио - словеса изрекающий ворон. Машет руками Иоганн магистру, криком кричит - да не отзывается герр Клаускус, поглощен книгою древнею. Между тем дивный корабль над волнами завис и легко-легонько отделился от стихии морской, заскользил, будто облачко, по небесам. "Магистр Клаускус, магистр Клаускус, заберите меня с со-бо-ой!" - прокричал Иоганн. И очнулся от забытья.
Он очнулся от забытья и мигом припомнил все: скороспешное бегство из Граца, бесконечную, в черных колдобинах и рытвинах дорогу, нищих слепцов.
- Пить! Пи-ить! - простонал профессор. Прохладная рука опустилась на его разгоряченный лоб. Голос жены сказал из тьмы:
- Тебе не пользительна сырая вода, Иоганн. Ты болен, тяжко болен. У тебя лихорадка, Иоганн.
Колеса скрипели. Барабанил по фургону дождь. Молния вскипала в озерах тьмы. Кричал на лошадь возница, кнутом щелкал.
Кеплер нащупал в кармане флягу, откупорил, приложился горящим ртом к горлышку.
- Иоганн, ты болен, болен, - шептала всхлипывающая жена. - Ты бредишь уже третьи сутки. Вчера, в забытьи, ты выбросил нищим последние деньги.
- Не горюй, Барбара... Они бедные люди... Среди оных бродяг... может статься... пребывает и мой отец... Генрих Кеплер, - задыхаясь, проговорил Иоганн.
Громыхнуло над лесом. Молния надвое перерезала ночь, высветила домишки поодаль, скирды сена, мельницу ветряную. Лошадь шарахнулась и понесла.
- Погоди, тебе говорят, стой! Осаживай клячу! Пограничный кордон! - донесся спереди крик.
Вскоре замаячил шлагбаум. К фургону приблизился стражник с фонарем.
- Откуда родом? Зачем пожаловали в Богемию? - нагло вопросил он, поигрывая пикой. Отчего ж не поиграть оружием, коли притащились людишки без конвоя, без прислуги, без выкриков "Спишь, мерзавец! Подымай шлагбаум!", без... Одним словом, мелюзга, мелкая сошка.
Иоганн с трудом привстал на коленях, отстранил полог фургона, назвался.
- Герцога Силезского знаем. Графа Лауцизского, равно как и ландграфа Гессенского, знаем. Курфюрстов - Саксонского и Пфальцского - многажды лицезрели. Математикус Кеплерус нам неведом, - отрезал стражник.
- Тогда зачитай сие письмо. - Кеплер протянул стражнику бумагу.
Тот поднял фонарь повыше, склонился, оберегая письмо от дождя, повертел бумагу, губами зашевелил.
- По-каковски писано? Подобной грамоте не обучен, - признался он наконец. - И посему поворачивай оглобли! Грех по непогодице будоражить людей.
- Олух царя небесного! Немедля разбуди офицера! Передай: следуем в Прагу, ко двору его императорского величества! - прогневался звездочет.
Как языком слизнуло испуганного стражника. Явился, бряцая шпорами, офицер. Он долго зевал, чмокал, затем принялся за письмо, зачитывая по складам:
- "...Приезжайте, и не как чужой, а как желанный и любезный мне друг. Приезжайте, и я с удовольствием поделюсь с Вами своими наблюдениями и инструментами. Ваше общество доставит мне много приятного. Преданный Вам Тихо Браге, имперский астроном".
- В какой валюте намерены вносить пошлину за въезд? Гульдены? Франки? Кроны? Флорины? - спросил офицер. Видимо, он вполне удовлетворился лестным для путника посланием личного астронома государя.
- Господин офицер, - заговорила Барбара. - В дороге нас ограбили разбойники. Помимо того, мой супруг нездоров - у него лихорадка. Позвольте вас заверить: по прибытии в Прагу мы неукоснительно выплатим все, что причитается по закону.
- Закон есть закон. Беспошлинный въезд в Богемию возбраняем, - отчеканил кордонщик. - Ко всему прочему, ненастье, темень препятствуют таможенному досмотру. Придется повременить до утра.
Тем временем больной снова обеспамятел. Поначалу он прошептал несколько бессвязных фраз, затем выкрикнул:
- Пить! Пить! Змея и лебедь на щите!
Заслышав пароль родимого Ордена иезуитов, офицер суетливо застегнул пуговицу на камзоле, поправил шляпу.
- Вы что-то изволили молвить, господин Кеплер? - необыкновенно учтиво осведомился он.
- Бредит он, бредит. Какие-то змеи, щиты, лебеди, - сказала Барбара.
Последующие действия ретивого иезуита целиком и полностью определялись параграфами устава, касающимися помощи братьям по вере. Чтение письма по складам, таможенные проволочки, ссылка на темень и ненастье - все оказалось как бы само собою забытым. Из кармана, офицерского камзола извлечен был кошелек и подкинут незаметно в фургон - то-то изумится утром брат-иезуит, пострадавший от придорожного разбоя. Рядом с тенью возницы уселась другая тень - стражника, коему было строжайше наказано: сего высокородного господина сопровождать до самого двора его величества. Впрочем, свершившуюся метаморфозу Барбара могла еще как-то понять, даже не впутывая сюда вмешательство нечистой силы. В конце концов, и у офицера после разговора с красивой дамой может помутиться разум. Другого никогда так и не уяснила себе Барбара Кеплер. Чего ради офицер (хотя бы и свихнувшийся) переложил вдруг фонарь в левую руку, ни с того ни с сего выхватил шпагу и бешено отсалютовал двинувшемуся в путь фургону? С чего бы салютовать, коли подобные знаки внимания предназначаются лишь высокопоставленным особам, да и то, сказать по правде, не всем?
|
ПОИСК:
|
© 12APR.SU, 2010-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://12apr.su/ 'Библиотека по астрономии и космонавтике'